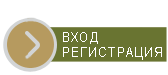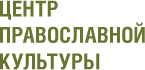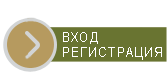"Святая Троица" Преподобного Андрея Рублева
“Святая Троица” Преподобного Андрея Рублева

Как известно, преподобный Андрей Рублев создал прославленную икону Пресвятой Троицы “в похвалу” своему духовному учителю — преподобному Сергию Радонежскому. И если этот Игумен Земли Русской построил, согласно тексту сергиева “Жития”, соборный Троицкий храм в основанной им обители, “дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего”1, то ведь то же самое можно сказать и об иконе письма преподобного Андрея: и она точно так же провозглашает Божественные Любовь и Мир в качестве основы истинной христианской жизни. Недаром о. Павел Флоренский писал о рублевской “Троице”, что в ней великий иконописец “воистину передал нам узренное им откровение <…> бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира”2.
И вот уже на протяжение почти векового изучения рублевской “Троицы” как духовного и художественного феномена мы пытаемся все глубже и глубже проникнуть в полноту ее вышнего, горнего смысла. При этом вполне естественным оказывается и наше стремление уяснить: что же нового смог внести преподобный Андрей в столь, казалось бы, традиционный троический образ, имевший к началу XV в. более чем тысячелетнюю историю развития в православном искусстве и уже тогда явленный со значительной полнотой боговидения в Священном Предании Церкви? Что из “узренного” святым иконописцем — в молитвенном и творческом его подвиге — передал он в своей иконе?
Для ответа на эти вопросы, хотя бы частичного, представляется полезным проследить поначалу — пусть и вкратце — основные направления в художественно-иконографическом развитии образа Святой Троицы, предшествовавшем созданию рублевской иконы.
* * *
Первоначальный этап разработки темы Троицы в православном искусстве в целом можно условно назвать историко-аллегорическим, поскольку для раннехристианской эпохи вообще был характерен именно такой уровень и именно такой тип художественного символизма3. В контексте еще пост-эллинистического по сути искусства вполне естественно, что и древнейшие композиции на тему Троицы оказывались более или менее аллегорически трактуемыми изображениями ветхозаветной исторической сцены “Гостеприимства Авраамова” как сцены встречи Авраамом Бога, сопровождаемого двумя спутниками-ангелами. Это, подчеркнем, отнюдь не есть еще доведенный до возможной степени символизации образ собственно Триипостасного Божества, впервые являющего Себя — именно в таком качестве — миру. Поэтому наиболее ранние изображения Троицы представляют Ее в виде трех обычных странников (в соответствии с текстом Быт 18), — то вовсе без нимбов и крыльев (как знаков “небесного” достоинства)4, то с нимбами, но все же без крыльев5. Такое отсутствие в первоначальных троических композициях всех необходимых и теперь уже столь привычных для нас символических “ангельских” атрибутов объясняется не только тем, что в это время иконографический канон “небесных сил” еще только зарождался, но также и тем, что использовать для репрезентации Божества непосредственно ангельские образы художники, по-видимому, еще не решались. Однако попытки как-то указать на то, что Аврааму явился именно Бог с двумя некими спутниками, уже предпринимались: так, в известной римской мозаике в храме Санта Мария Маджоре (432–440 гг.), в сцене прихода Троицы к Аврааму центральная фигура из трех особо выделена миндалевидной формы сиянием — “мандорлой”.
Богословским обоснованием сугубо аллегорической художественной интерпретации “Гостеприимства Авраамова”, в которой тема триипостасности Божества как таковая присутствовала еще “прикровенно”, безусловно служили толкования этого события Ветхого Завета в трудах раннехристианских церковных писателей — св. мученика Иустина Философа, св. Илария Пиктавийского, Тертуллиана, Евсевия Кесарийского, а затем — блаженного Феодорита, свт. Епифания Кипрского, свт. Иоанна Златоуста. Все они преимущественно толковали само “Гостеприимство” как лишь едва приоткрывшийся ветхозаветному человечеству прообразовательный “намек” на бесконечную по своей глубине идею троичности: с главным ангелом-путником (Богом) они связывали то образ всей Троической Полноты, то образ одной только Сыновней Ипостаси, принявшей ради Авраама ангельское подобие под видом “Ангела Иеговы” или же “Логоса”.

Илл. 1. Явление Св. Троицы Аврааму и Гостеприимство Авраамово, 432–440 гг. Мозаика в Санта-Мария Маджоре, Рим.
Так, например, свт. Иоанн Златоуст вполне определенно утверждает, что “…В куще Аврааму явились вместе и Ангелы, и Господь их. Но потом Ангелы, как служители, посланы были на погубление тех городов (Содома и Гоморры), а Господь остался беседовать с праведниками”6.
Предварительно следует подчеркнуть, что вообще в ветхозаветных теофаниях, согласно их новозаветной трактовке, именно и только Сын, одновременно и “собезначальный” Отцу, и “рожденный прежде всякой твари” (Кол 1:15), выступает как образ Ипостаси Отца, о чем можно найти немало свидетельств у того же св. Иустина: и в своей “Апологии первой”, и в “Разговоре с Трифоном Иудеем” он неоднократно разъясняет, что Сын — как Сый, Сущий — говорил из горящего куста-“купины” с Моисеем, боролся с Иаковом и явился Аврааму как Ангел Иеговы7.
Более того, в отдельных случаях образ “главного” ангела в сцене “Гостеприимства” уже в ранней новозаветной художественной традиции символизировал Сына не только в качестве Второго Лица Троицы, то есть как Бога Слово, но и как Спасителя мира: именно такое толкование мы находим у Евсевия Кесарийского в известном его описании находившейся некогда у Мамврийского дуба иконы “Гостеприимства Авраамова”. Евсевий здесь прямо называет ангела, “превосходящего честью двух других — по местоположению и величине”, — Спасителем: “Это и есть явившийся нам Господь, Сам Спаситель наш”8.
Такой, казалось бы, вопиющий анахронизм в интерпретации образа центрального ангела в “Троице” на самом деле есть лишь отражение принципиально метаисторического характера христианской историософии в целом, провозглашающей Самого Христа “Альфой и Омегой” — одновременно и началом и концом — всего бытия. Недаром тот же Евсевий, говоря о Христе и провидческом знании о Нем еще ветхозаветных (!) “людей праведности”, замечает: “Его видел Авраам. Он давал предсказания Исааку, говорил с Израилем, беседовал с Моисеем и последующими пророками”9. Отсюда неудивительно и дальнейшее его утверждение, что Аврааму “явился Бог (это был Христос, Слово Божие)” и что “верой в явившегося ему Христа, Слово Божие, оправдался Авраам”10.
Любопытно, что параллелью подобному подчеркнуто христоцентрическому толкованию Евсевия оказывается его еще более дерзновенная мысль о том, что уже изначально вся религиозная суть истории богоизбранного человечества есть суть христианская, ибо верой в Христа, Слово Божие Авраам “отрекся от суеверия предков и заблуждения прежней жизни, исповедал единого Всевышнего Бога и служил Ему добрыми делами, а не соблюдением Закона, данного уже потом Моисеем <…> Авраамову веру, подтверждаемую делами <…> в настоящее время соблюдают по всей вселенной только христиане”11. В таком контексте лишь период “после Авраама” — вплоть до воплощения Бога Слова во Христе Иисусе — оказывается как бы временной утратой христианского начала в жизни богоизбранного народа израильского, — того спасительного начала, с которым человечество вновь воссоединяется уже в Новом Израиле, в Богочеловеческом Теле Христовом — в Его Новозаветной Церкви.
В этих высказываниях Евсевия удивительно точно проявляется самый характер православного мировидения: неразрывное сосуществование высокой христианской метафизики (в частности — вневременное созерцание праведниками Сына Божия “чистыми умственными очами”12) с конкретностью этого созерцания, позволяющей Евсевию задать — для него вполне риторический — вопрос: “кто другой мог бы назван быть Богом и Владыкой, судящим всю землю и творящим суд, узренным в образе человека, как не предвечно существовавшее Слово Причины всего?”13
И однако для раннехристианской культуры — в том числе и искусства — воплощение горнего мира Пресвятой Троицы в адекватных символических парадигмах-образах (причем — мира, непременно перед этим узреваемого “чистыми очами” веры) оставалось делом будущего: “символическое” явление образа Троицы могло осуществиться лишь в рамках дальнейшего развития церковного Предания как результат синергии творческого человеческого духа с самооткровением Духа Божия. В ту же эпоху церковное искусство, используя во многом эллинистическую художественную традицию (хотя и пытаясь трансформировать ее), чаще передавало “внешнюю” сторону тех или иных библейских событий, не переступая, как правило, “аллегорического”, внешне-знакового уровня зарождавшейся тогда художественно-символической системы православной культуры. Более же высокий — анагогический (ўnagwg» — возведение, возвышение), то есть собственно символический уровень “знака” был, как известно, достигнут только впоследствии, явив на протяжении последующего более чем тысячелетнего существования “классического” православного искусства (до XV–XVI вв. включительно) абсолютно аутентичную знаковую систему поистине богооткровенного “символического реализма”14. Причем процесс этот шел как на уровне осмысления образа (в его “восхождении” к Первообразу) в целом, так и на уровне творческого открытия и воплощения тех или иных конкретных иконографических решений, инспирированных именно таким пониманием образа, — в русле единого художественно-символического канона Православной Церкви.
Отсюда понятно, что и в случае интересующей нас темы Троицы мы можем наблюдать подобную же трансформацию связанной с ее раскрытием знаковой системы. Постепенно происходит качественный переход от историко-аллегорического осмысления и толкования “Гостеприимства Авраамова” к анагогически-символическому рассмотрению его и как библейского события, и как иконографического сюжета, — а именно как акта (соответственно — и образа) поклонения Самому Триипостасному Богу.
Об этом ясно свидетельствуют высказывания свт. Амвросия Медиоланского, свтт. Кирилла и Афанасия Александрийских, а также блаженного Августина, писавшего, в частности: “Авраам встречает трех, а поклоняется Единому. Узрев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы Единому, исповедал Единого Бога в Трех Лицах”15.
* * *
В полном соответствии с параллельно существовавшими в дальнейшем двумя типами толкований — историко-аллегорическим и прообразовательно-
В границах первого вида центральная фигура — собственно Самого Господа — приобретает все большее значение, то получая крещатый нимб при наличии простых нимбов у двух других фигур (фрески середины XI в. в церкви Святой Софии в Охриде; миниатюра греческой Псалтири библиотеки Ватикана в Риме, ок. 1092 г.16), то в силу нарочитого отсутствия нимбов у левого и правого ангелов (плита из Шио-Мгвиме в Грузии, 1012–1030 гг.17). Здесь — как и в ряде более поздних памятников — постоянно продолжает звучать (пусть уже и с меньшей определенностью) все та же изначальная традиция понимания “Гостеприимства Авраамова” как встречи его с Богом, сопровождаемым двумя слугами-ангелами.
Во втором же иконографическом изводе художники все более последовательно стремятся передать символический образ конкретно триипостасного явления Троицы при одновременном единстве Ее Ипостасей, хотя сами внутритроичные ипостасные отношения еще никак или почти никак — даже формально — не конкретизируются. В этом варианте ангелы имеют уже три одинаковых нимба — то с перекрестием, то без него (например, миниатюра константинопольской Псалтири 1066 г. в Британском музее; миниатюра греческого Октатевха библиотеки Ватикана в Риме, 2 четв. XII в.; мозаика собора в Монреале на Сицилии, 1180–1194 гг.; шиферная иконка XIII в. в Русском музее; грузинские фрески XIII в. в Бертубани и в Удабно18). Однако и в этих памятниках проглядывает еще несколько аморфное понимание образа Троицы, в некоторых случаях даже с рецидивами бессознательного субординационизма, с трудом изживаемого в рамках человеческой психологии: так, например, и внутри данного вида имеются памятники, где боковые ангелы — в отличие от центрального — представлены с “клавами” (нашивками) на рукавах, то есть со знаками скорее ангелов (или, точнее, архангелов) как вестников, чем в качестве непосредственно ипостасных образов (фреска в соборе Свт. Иоанна Богослова на Патмосе, кон. XII — нач. XIII в.; миниатюра Серальского Октатевха XII в. в Стамбуле19), — хотя и ипостасное их “прочтение” отнюдь не исключается вовсе.
Иконография первого вида (образ Бога Сына с двумя ангелами) есть, — подчеркнем это еще раз, — изображение (причем почти “приточного”, по древнерусскому выражению, характера) только сцены “Гостеприимства”— не более. Именно так это изначально понималось и на Руси, о чем свидетельствует одно из “Слов” свт. Кирилла Туровского (XII в.), где Христос обращается к апостолу: “Веруй Ми, Фомо, и познай Мя, якоже Авраам, к нему же под сень с двема ангелом придох, и той, познав Мя, Господа Мя нарече”20.
Такого рода изображений “Гостеприимства” сохранилось немало и в древнерусском искусстве: можно указать хотя бы пластины врат собора Рождества в Суздале (1230–1233 гг.); пластины Васильевских и Тверских врат (XIV в.); ряд резных и гравированных панагий XV в.; икону Троицы из Ростова Великого (XV в.) в собрании Третьяковской галереи; шитый покровец (ок. сер. (?) XV в.), в собрании Сергиево-Посадского музея21. Для всех них характерно наличие крещатого нимба только у центрального ангела и отсутствие “клавов” у боковых (а иногда и у всех трех) ангелов.
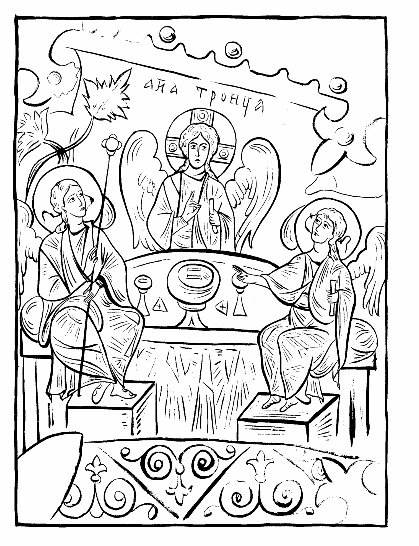
Илл. 2. Святая Троица. Около 1230 г. Пластина на западных вратах собора Рождества Богоматери в Суздале.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что символически-реалистического — в духе онтологического церковного реализма — понимания образа Троицы (не как “аллегорического” изображения Бога с двумя ангелами, а как образа непосредственно Триипостасного Божества) в дорублевскую эпоху на Руси или не существовало вовсе, или же оно было выражено весьма слабо. Примеров подобных художественно-иконографических решений, создававшихся в рамках указанного второго извода, вплоть до конца XIV в. среди древнерусских памятников искусства практически почти не встречается; пожалуй, пока известен только один образец такого рода — каменный горельеф Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, 1230–1234 гг.22.
Заметим притом, что этот догматически более углубленный иконографический вариант “Троицы” вообще развивается в Византии, по-видимому, только с XI–XII вв.— как бы параллельно с процессом дальнейшей конкретизации православной триадологии, чему, возможно, способствовали литургические споры и борьба с еретиками в середине XII столетия, когда вновь встал вопрос о внутритроичных ипостасных отношениях (в ходе строго-ортодоксального осмысления спасительной Жертвы Сына как Второго Лица Пресвятой Троицы)23.
О том, что на Руси, как впрочем и в балканских странах, более распространенным все же являлся преимущественно “аллегорический” вид иконографии Троицы, а также и о том, что углубленное символическое понимание Ее образа было доступно немногим и что образ этот чаще всего воспринимался “знаково”-условно, говорит весьма большое число дошедших до нас памятников: везде в них тем или иным способом выделена центральная фигура Господа. Так, в некоторых из них только средний ангел имеет крещатый нимб и сопровождается монограммой “IC XC” (ряд панагий XV–XVI вв.)24; в другой группе изображений у среднего ангела имеется крещатый нимб с надписью “О WН” (Сый, Сущий), древнейшим примером чего на Руси может служить известная “Троица” Феофана Грека в росписи храма Спас-Преображения “на Ильине” в Новгороде, 1378 г.; наконец, третья группа памятников характерна тем, что хотя в них уже все три ангела имеют нимбы с перекрестьями, но монограмма “IC XC” тем не менее представлена только около среднего ангела.
Второй основной вид иконографии “Троицы”, пытающийся в духе конкретного религиозного символизма образно представить три равночестные Ипостаси, не разрушая при этом единства Троического Божества, получает определенное развитие скорее всего с середины XIV в.; не последнюю роль в этом должна была сыграть победа паламизма с его развитием православного учения о боговидении и дальнейшее активное распространение учения о “фаворском свете” во всей византийской ойкумене. Искусство и богословие здесь представляются взаимосвязанными, однако выяснение догматической и опытно-исихастской подосновы их внутренней связи — дело будущего.
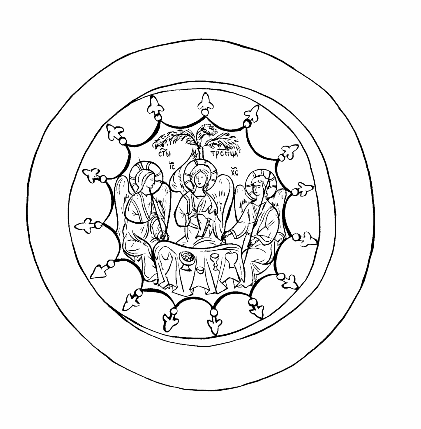
Илл. 3. Святая Троица. Около 1483 г. Гравированоое изображение на створке панагии. Из Твери. Музей “Новодевичий монастырь”, Москва.
К сожалению, византийских или пост-византийских памятников, являющих собой примеры второго извода троических изображений, до нас дошло крайне мало: и в Греции, и на Балканах подобный сугубо символический вид иконографии Троицы был не слишком популярен. В качестве его образцов можно назвать три наиболее известные греческие иконы Троицы. Так, в какой-то степени к этому виду относится икона афонского Ватопедского монастыря, XIV в.; однако более последовательно данную иконографическую традицию представляют иконы конца XIV или даже начала XV в.: одна в Эрмитаже в Петербурге, другая — в музее Бенаки в Афинах25.

“Святая Троица” преподобного Андрея Рублева. Первая четверть XV в. Из Свято-Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Государственная Третьяковская галерея, Москва
* * *
Главной наследницей Византии в деле дальнейшего богословского и художественного развития троической темы суждено было стать Древней Руси. И именно преподобному Андрею Рублеву довелось воплотить в православном искусстве, — быть может, даже впервые с такой полнотой за всю долгую историю существования троической иконографии, — символический образ личностно-ипостасной и одновременно неразрывно единой Пресвятой Троицы (или, употребляя святоотеческую терминологию, “Троицу в Единице и Единицу в Троице”). Только Рублеву удалось максимально использовать те возможности православного образотворчества, что как бы подспудно таились в ряде памятников, создававшихся в рамках второго иконографического вида. С необычайным духовным тактом сохранив и прояснив символическую подоснову троической иконографии этого извода и одновременно смиренно осознав конечную невозможность полностью адекватного образа Пресущественной и Непознаваемой Троицы, преподобный Андрей смог — хотя бы частично — приобщить нас к тайне внутритроичных ипостасных отношений. При этом ему удалось обойтись без каких-либо внешних иконографических атрибутов, нередко только внешне-формально (порой даже почти заученно механически) указывающих на то или иное Лицо-Ипостась.
О непосредственно художественных путях передачи Рублевым в его иконе межипостасных отношений Пресвятой Троицы здесь говорить не имеет смысла — данной теме посвящена обширная искусствоведческая литература, хотя в последней эти отношения чаще всего рассматриваются в духе, так сказать, “лирического психологизма”, — не более. Теперь же мы коснемся лишь некоторых идейно-иконографических особенностей рублевской иконы.
Выдающийся исследователь в области иконологии и богословия иконы — светлой памяти Л. А. Успенский — в одной из своих последних работ заметил, что “как откровение неизобразимого Божества, явление Аврааму может быть передано только символически, в виде трех безличный Ангелов. Поэтому всякое наименование Божественных Ипостасей в этом образе может быть только произвольным противоречием Шестому и Седьмому Вселенским Соборам”26. И действительно, нам известен пока только один памятник непосредственно рублевской эпохи, где точно обозначено Имя каждой Ипостаси — это так называемая “Зырянская Троица” конца XIV в., связываемая с просветительской деятельностью преподобного Стефана Пермского среди пермяков-зырян27. На иконе около каждого ангела имеются надписи на зырянском языке: у левого (от зрителя) — “Сын”, у среднего — “Отец”, у правого — “Дух”.
Оставляя в стороне известную догматическую проблематичность столь конкретного именования Лиц на иконе и объясняя этот факт соображениями — главным образом — миссионерской икономии преподобного Стефана, мы, тем не менее, вправе усмотреть здесь отражение достаточно традиционного (хотя, так сказать, и “неписанного”) понимания самого порядка размещения на подобных иконах ангелов, символизирующих Лица Троицы (причем этому отнюдь не мешает наличие у каждого ангела крещатого нимба с надписью “О WН”). В чудом сохранившихся надписях с указанием Лиц иконописец как бы “проговорился” о явно традиционном размещении Их на иконах “Троицы” той поры — то есть о том, как конкретно Они воспринимались тогда молящимся человеком Древней Руси.
Однако рублевская “Троица” — в отличие от “Зырянской” — как раз тем и характерна, что, судя по данным современных физических исследований памятника, тут изначально не имелось вообще никакого обозначения Лиц (на что — на основании чисто визуальных данных — еще ранее указывал Г. И. Вздорнов28): здесь нет ни следов надписей, ни даже следов графьи29 от средокрестий в нимбах (или хотя бы в нимбе центрального ангела) — при том, что, например, графьи от лент-“тороков” на главах ангелов сохранились во всех трех нимбах. Имеются лишь остатки киноварной надписи на фоне: “Святая Троица”30. При этом важно отметить, что точно так же никаких обозначений Лиц (или хотя бы следов от таких обозначений) нет и на нескольких иконах, почти копирующих рублевскую “Троицу”; таковы: икона из Воскресенского собора в Коломне (кон. XV в.) в собрании Третьяковской галереи (хотя сохранность иконы и оставляет желать лучшего); створка панагиара (1435 г.) из Софии Новгородской; изображение Троицы на сени Царских врат в Троицком приделе собора Василия Блаженного в Москве (сер. — трет. четв. XVI в.); икона из того же придела (сер. — втор. пол. XVI в.); икона в Троице-Сергиевой лавре — “годуновская” (1598 г.)31.
Вряд ли это случайность, скорее — закономерность. Косвенным образом это подтверждается вопросо-ответами Московского Стоглавого собора 1551 г., где сказано вполне определенно: “У Святой Троицы пишут перекрестье (в нимбах — Ю. М.) ови у среднего, а иные у всех трех. А в старых писмах и в греческих подписывают «Святая Троица», а перекрестья не пишут ни у единого (заметим, что таких памятников до нас дошло очень мало. — Ю. М.). А иные подписывают у среднего «IС ХС Святая Троица». И о том ответ. Писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочии пресловущии живописцы, а подписывать «Святая Троица». А от своего замышления ничтоже претворяти”32.
Ответ Стоглава может служить дополнительным и вполне достаточным подтверждением того, что, вероятно, именно для рублевских “Троиц” (а их, думается, было немало) формальное обозначение Лиц — посредством различных пояснительных надписей, перекрестий в нимбах и т. п. — не было характерно.
И все же и в рублевской иконе эти Лица, символизируемые ангелами, как бы стремятся к личностному Своему проявлению: образы Их не лишены некоторой, пусть и “прикровенной”, конкретности в выражении ипостасных взаимоотношений и потому могут быть “определены” если не как однозначная религиозная данность, что, разумеется, невозможно, то хотя бы как данность художественно-символическая.
Апофатически33 признавая вообще всякую условность любого изображения Пресвятой Троицы, душа человеческая, так сказать, на уровне катафатическом все же стремится хотя бы прикоснуться — через откровение “художественного боговидения” — к Божественно-Личностной тайне Триипостасного Бога. И потому, в частности, и Л. А. Успенский, и многие другие историки искусства и богословы тем не менее пытались вполне четко “определить” Лица в рублевской “Троице”.
Вкратце варианты попыток подобной идентификации Лиц (с указанием сторонников тех или иных вариантов) можно представить следующим образом.
1-й вариант: слева (от зрителя) — Бог Сын, в центре — Бог Отец, справа — Святой Дух (такой версии придерживались Д. В. Айналов, Н. М. Тарабукин, П. Евдокимов, Н. А. Демина, А. Ванже, Г. И. Вздорнов, прот. А. Ветелев);
2-й вариант: слева — Бог Отец, в центре — Бог Сын, справа — Святой Дух (В. Н. Лазарев, М. В. Алпатов, В. И. Антонова, монах-иконописец Григорий Круг, Л. А. Успенский, Р. М. Маинка, прот. Л. Воронов, прот. А. Салтыков, Э. С. Смирнова);
3-й вариант: слева — Бог Отец, в центре — Святой Дух, справа — Бог Сын (архиепископ Сергий Голубцов, Л. Кюпперс);
4-й вариант: слева — Святой Дух, в центре — Бог Отец, справа — Бог Сын (Л. Мюллер, а также по материалам “Иреникона”)34. Последние две трактовки, однако, предельно субъективны и не выдерживают серьезной критики: за ними, по сути, нет сколько-нибудь общепринятых традиций — ни богословской, ни иконографической.
В целом вопрос сводится к тому — кто же изображен преподобным Андреем (по внутреннему его замыслу) в центре иконы: Бог Отец или Бог Сын? Ведь в ней имеется немало иконографических и чисто художественных нюансов, до сих пор позволявших ее исследователям решать этот вопрос самым различным образом.
Наиболее адекватным решением здесь представляется позиция, как бы примиряющая обе стороны и одновременно признающая частичную правоту аргументации каждого из оппонентов, а именно: с достаточной уверенностью можно утверждать, что преподобный Андрей, стремясь передать неразрывное единство Ипостасей при обязательном Их различении, не мог не отразить в своей иконе хорошо известной, хотя и постоянно ускользающей из сферы рационального умствования, предельно антиномичной оппозиции нераздельность-неслиянность. При этом он, в соответствии со всей святоотеческой традицией, сознательно представил образ Отца через образ Сына — по евангельскому слову: “Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” (Ин 1:18). Более того — Рублев смог непосредственно иконографически-
О подобном как бы “двоении” (и, соответственно, художественно-символической контаминации) образов Отца и Сына, когда образ Родившего репрезентируется образом Рожденного, имеется немало святоотеческих высказываний. Так, в Символе свт. Григория Чудотворца, Неокесарийского, непосредственно о Сыне говорится: “един Господь — Бог от Бога — образ и выражение Божества”35, свт. Афанасий Александрийский называет Сына “образом Отчим”, от Него “неотличимым Образом”36, свт. Григорий Богослов утверждает, что Сын есть “Начало от Начала — от бессмертного Отца, Образ Первообраза”37, а свт. Григорий Нисский пишет: “Сын в Отце — как красота изображения в первообразном зраке. Отец в Сыне — как первообразная красота обитает в Своем изображении. И нам следует одновременно держать в мысли то и другое”38.
Столь же традиционное понимание неразрывности образов Отца и Сына мы находим и у свт. Василия Великого, писавшего: “в Боге Отце и в Боге Единородном (то есть Сыне — Ю. М.) созерцаем один как бы образ, отпечатлевшийся в неизменности Божества. Ибо Сын в Отце и Отец в Сыне, потому что и Сын таков же, каков Отец, и Отец таков же, каков Сын; и в этом Они едино”39; именно поэтому Сын есть собственный Образ Отца, Его “Живой Образ”40.
Наконец, позднее, у преподобного Иоанна Дамаскина, мы находим даже своего рода “иерархический” строй неразрывной системы (как замкнутого цикла) “божественных образов” Пресвятой Троицы, когда Сын выступает как “природный Образ” Отца — “совершенный, во всем подобный Отцу Образ, кроме нерожденности и отечества”, а Святой Дух — как “Образ Сына, ибо никто не может сказать «Господи Иисусе», как только Духом Святым” (то есть через посредство откровения этой истины Святым Духом. — Ю. М.), “итак, в Духе Святом мы познаем Христа как Сына Божия и Бога, и через Сына мы видим Отца”41.
Если труды святых отцов на эту тему, очевидно, не всегда были доступны древнерусским иконописцам, то сама эта святоотеческая традиция именно такого восприятия образа Отца через образ Сына была общепризнанной и распространенной. Ведь и преподобный Андрей прекрасно знал о том, что апостол Павел в посланиях к Колоссянам и к Коринфянам называет Сына “Образом Бога Невидимого” (см. Кол 1:15; 2 Кор 4:4). Знал он и о том, что, согласно тому же апостолу Павлу, только Сын есть в духовном смысле точный образ Родившего — “будучи сияние славы и образ ипостаси Его” (Евр 1:3), ибо ведь недаром ответом Иисуса на просьбу апостола Филиппа показать ему Отца было: “Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?”(Ин 14:9–10).
Известно, что подобный же принцип репрезентации применялся, например, и в композиции “Ветхий Деньми” (“Отечество”), где символическое изображение (в виде старца) Бога Отца всегда сопровождалось монограммой “IС ХС” поскольку именно Сын — как “Ветхий Деньми” — и являл Собой образ Отца42. Кроме того, существуют и изображения так называемой “Новозаветной Троицы”, или “Сопрестолие” (каноничность которых, правда, вызывает серьезные сомнения — но это уже вопрос особый), — где слева (от зрителя) всегда помещен образ Сына, тем самым восседающего “одесную Отца”, в центре — образ Отца, но опять-таки в образе Сына — как “Ветхого Деньми” (причем также с монограммой “IС ХС”), а справа — образ Святого Духа в виде голубя на жертвеннике (наиболее типичные древнейшие изображения: фреска в Матейче, в Сербии (1356–1360 гг.), фреска в церкви свв. Константина и Елены в Охриде, в Македонии (сер. XV в.)43.
Предлагаемое здесь решение вопроса о художественно-иконогра
Учитывая такого рода аналогии, вполне позволительно будет истолковать точно так же и изображения ангелов, символизирующих Божественные Лица, в рублевской “Троице”. Образ правого (от зрителя) ангела несомненно воспринимался, — если данное восприятие вообще имело место, — как изображение Святого Духа, с чем согласно и подавляющее большинство исследователей иконы. В центре (и символически это вполне оправданно) нам явлен образ Отца, но образ Его художественно целомудренно “замещен” и репрезентируется “ангелоподобным” образом Сына: поэтому центральный ангел и изображен в каноническом для иконописи одеянии Спаса — в вишневом, с клавом, хитоне и голубом гиматии. Но одновременно этот символически явленный ангел — как подразумеваемый под образом Сына Сам Отец — благословляет жертвенную чашу Сына со Святым Агнцем (ибо Сын есть “Приносяй и Приносимый” — в соответствии со словами тайной молитвы Херувимской песни на Литургии верных); причем ангел этот как бы вопросительно-призывно обращен к ангелу, находящемуся по правое плечо от него, то есть к собственно образу Сына, “сопрестольного” Отцу; и вспомним здесь слова Псалмопевца: “седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих” (Пс 109:1) или же вариацию на ту же тему у апостола Павла: слова о Сыне, Который “воссел одесную престола величия на высоте” (Евр 1:3). Этот левый ангел, непосредственно представляющий Сына, “прежде всех век” согласного во всем с волей Отца (а точнее — всей Святой Троицы) о необходимости принесения Себя в жертву за падший человеческий род, сдержанно — как бы трепетно-осторожно и покорно — также благословляет искупительную евхаристическую чашу.
Одежда левого ангела несколько светлее одежд двух других ангелов и более похожа на “багряницу”, словно пронизанную небесной лазурью; и здесь следует заметить, что нередко этот ангел изображается (что весьма показательно) на иконах Троицы в алом, традиционно “мученическом” облачении — последнее дополнительно подтверждает существовавшую традицию связывать именно эту левую фигуру с образом Ипостаси Сына как Христа-Страстотерпца45.
Не лишено внутренней логики и помещение над левым ангелом некоего здания — как символа Божественного Домостроительства спасения; понятие же это в православной сотериологии неразрывно связано с Сыном, и если вся Святая Троица участвует в деле спасения человечества от уз греха и смерти, то все же непосредственным Созидателем и Совершителем нашего спасения признается один только Сын Божий — как писал митрополит Николай Кавасила, сподвижник свт. Григория Паламы: “Художником совместного воссоздания людей является вся Троица, Созидателем же — одно Слово”46, то есть Сам Сын Божий, воплотившийся Господь наш Иисус Христос. Вот это-то “божественное художество” всей Полноты Пресвятой Троицы в деле спасения мира и выразил — через как бы “двойной” символический образ Сына — преподобный Андрей в своей богооткровенной иконе.
* * *
Опираясь на уже раскрытое ранее в трудах отечественных и зарубежных ученых богатство идейно-художественного содержания рублевской “Троицы”, в том числе и на собственно богословские истолкования этой иконы, попытаемся теперь определить хотя бы некоторые из отразившихся в ней важнейших православных понятий.
Прежде всего — на уровне общехристианской онтологии — это понятие о мирозиждительном характере Единой Божественной Троицы как Предвечного Совета (о творении и будущих судьбах бытия), что непосредственно и символизируется образом Пресвятой Троицы в виде трех собеседующих ангелов. Первостепеннейшей для рублевской иконы является также идея спасительного Боговоплощения: идея эта звучит особенно ярко благодаря подчеркнутой “христологизации” образа ветхозаветной теофании Сына как Ангела Великого Совета, то есть Сына, прежде всех век рожденного в недрах Троицы. Преподобный Андрей при этом стремится акцентировать всеми доступными ему в рамках жесткого иконографического канона художественными средствами мысль о том, что Воплощением Сына в Богочеловеке Христе и совершилось Откровение Им миру Полноты Божества — непосредственно как Троицы — когда Бог, как писал в свое время преп. Симеон Новый Богослов, “сжалившись над нашим неведением, настолько снизошел к нашей немощи, что мы познали, что Бог есть совершенная Троица, долженствующая быть поклоняемой во Отце и Сыне и Святом Духе”, хотя, как продолжает преп. Симеон, “какова Она по сущности, или что Она по виду, или где, или как велика по величине, или какова Она по соединению или по единству, понять это не случилось никогда не только людям, но и высшим силам не стала понятной непостижимость сверхсущной природы”47.
Мы уже имели возможность убедиться на примере приводившихся выше высказываний раннехристианских писателей, что с “грядущей” (по отношению к Ветхому Завету) христологией в новозаветном сознании ассоциировался и акт явления Троицы Аврааму (откуда и проявлялась та своеобразная “христоцентричность”, что исподволь присутствовала в троических изображениях). Но важно подчеркнуть, что подобный же акцент в толковании “Гостеприимства Авраамова” продолжал нередко ставиться и в гораздо более позднее время — в современную Рублеву эпоху паламизма. Что это именно так, хорошо показывает, в частности, одно любопытное для нас место в Четвертом слове “Диалога Иоанна Кантакузина с иудеем”, где этот византийский император середины XIV в. (принявший впоследствии монашество) говорит: “Кем же мы можем назвать Того, Кто явился Аврааму? Богом Отцом Он не был, ибо явился в виде человека, в каком Бог никогда не являлся пророкам. Не был Он и ангелом, ибо когда, имея в виду ангела, Моисей или кто-либо из пророков назвал бы его Господом и Судией? Что же остается? Выходит, что это был Сын и Слово Божие, являющийся разом Богом и человеком. Явление Его в виде человека перед Авраамом предзнаменовало Его будущее Воплощение, о чем Сам Бог и сказал: «Сойду и посмотрю». А то, что Авраам и Моисей назвали Его Господом, судящим всю Землю, милующим и воспитывающим, ясно свидетельствует о Его Божественности, ибо судить ее, милуя и воспитывая, никто не может, кроме Бога”48.
Этот текст лишний раз подтверждает тот неоспоримый факт, что и в рублевское время непосредственно христологическая окраска любого изображения Троицы безусловно оставалась преобладающей.
Другое дело, что если в многофигурных композициях “Гостеприимства Авраамова” (где соприсутствует сам Авраам, его жена Сарра, порой — их слуги) на первый план выступало прообразовательное “ветхозаветное” прочтение этой сцены “нисхождения” Бога в мир как прообраза грядущего Сыновнего Боговоплощения, то в иконах Троицы как Таковой — в духе рублевского образа с тремя символическими ангелами, без каких-либо дополнительных фигур — более значимым становилось несколько иное осмысление такого рода троических композиций. Здесь Троица уже мыслилась (и изображалась) не как пребывающая “временно” в тварном мире Авраама, но — в “вечности” мира горнего: это, по сути, и есть уже не историко-аллегорический, но истинно символический, сверх-временной образ Триипостасного Бога, образ Его Великого Совета в Царствии Небесном — Совета “о всех и за вся”. Для всех же нас это есть, прежде всего, Совет о нашем спасении через искупительную жертву Христа. И если в многофигурных сценах “Гостеприимства” ангельская трапеза нередко превращается по воле иконописца (благодаря ряду соприсутствующих побочных фигур, даже некоторых бытовых аксессуаров) в сцену “угощения” трех небесных гостей хлебосольным хозяином Авраамом49, то в рублевской “Троице” и в подобных ей иконах Сама Она “уготовляет Трапезу” Спасения для всего человечества: в иконе преподобного Андрея эта идея особенно заостренно передана образом единого мистического действа всех трех ангелов вокруг — не земной, авраамовой, но небесной, Божественной — евхаристической чаши как духовно-определяющего центра композиции в целом.
Важно отметить еще одну особенность “Троицы”, в общем хорошо нам известную, но наводящую на некоторые специфические размышления, так сказать, гносеологического порядка. Особенность эта заключается в том, что рублевская икона буквально пронизана всеподчиняющей мыслью о неразрывном сверхсущностном единстве Ипостасей-Лиц, основанном на единении Божественной Любви50 — на той Любви, что провозглашается художником в качестве первенствующего нравственного императива (личного и общественного) для всех — на путях духовного стяжания нами Царствия Божия как высшей цели христианской жизни. Ведь только в меру врастания человека в эту Божественную Любовь и совершается, в той или иной степени, приобщение его к Божественной Истине, к хотя бы частичному Откровению ему Святой Троицей тайны о Самой Себе, когда в Ее обоживающем Свете становится относительно возможным и некое, пусть и ограниченное человеческой тварностью (в случае же церковного искусства — неизбежно ограниченно-символическое) ведение о внутриипостасных отношениях в Ее недрах.
Естественно, подобный акт боговидения в православном творчестве, как это прекрасно показывает рублевская “Троица”, осуществляется лишь в силу возможности некоей духовной анагогии: когда происходит своего рода “обратное” анагогическое возведение умонепостигаемого образа Божества — к Самому Первообразу. Тогда и зрящий на икону— вслед за тайнозрителем-иконописцем — оказывается причастным к относительному “умопостижению” пренебесных тайн Божиих; тогда становится возможным и духовное “восхождение” самого нашего внутреннего зрения: очищенный и просветленный Божественной благодатью взор наш, сопричаствуя благодати иконы типа рублевской “Троицы”, восходит от символического “ангелоподобного” изображения “новозаветного” Богочеловека Иисуса Христа к “ветхозаветно” запредельному и сверх-таинственному образу Бога Сына как Ангела Великого Совета.
Однако необходимо подчеркнуть, что возникающее при таком “восхождении ума” символически-конкретное восприятие икон Троицы (с относительной “поименованностью” изображенных Лиц), — по-видимому, достаточно распространенное как в непосредственной религиозной жизни вообще, так и среди иконописцев XV–XVI вв., — на первый взгляд все же представляется несколько расходящимся с апофатической святоотеческой традицией, и, скажем, для преподобного Иоанна Дамаскина (тем более — в контексте его учения об иконе) образ Святой Троицы скорее должен был оставаться только символом неизобразимого в принципе (“по существу”) Единого Триипостасного Бога, без всякой — даже символически-условной — конкретизации ипостасных Божественных отношений51.
Так что же тогда: не является ли столь явно усматриваемое на всем протяжении долгой истории образов Троицы подспудное стремление к ипостасной художественной конкретизации Божественных Лиц — отходом от чисто православного восприятия троических икон?
И тут возникает очередной и, по-видимому, вполне закономерный вопрос: может быть, рассматриваемая нами длительная и многоплановая разработка троической темы в православном искусстве есть следствие постепенного, живого и благодатного процесса приобщения человека к надмирной тайне Пресвятой Троицы, процесса, совершающегося в русле постоянно творческого Священного Предания Церкви? Неужели необычайное множество икон на эту тему, создававшихся на протяжение XIV–XVII вв. во всей православной ойкумене, — икон, в которых явно отразилось стремление к художественно-символической реализации образов отдельных Ипостасей, — есть лишь результат утраты ортодоксального чутья и невольного искажения православного вероучения52?
В частности, если рассматривать традиционные изображения Троицы (рублевского типа, а не расширенного извода “Гостеприимства Авраамова” — с самим Авраамом и Саррой) как только символ “ветхозаветного” Предвечного Совета, то действительно весьма сомнительной представляется правомочность присутствия у ангелов крещатых нимбов (знака искупительных страстей одного лишь Христа) и, тем более, присваивания им всем надписи “IС ХС”, — что встречается в памятниках конца XVI–XVII вв., — как бы приписывания тем самым всем трем Лицам личностной икономии (воплощения и страданиий) Второго Лица. Л. А. Успенский, например, называет это “просто несуразностью”, — когда на иконе оказываются изображенными как бы три Христа53.
Однако кажется маловероятным, чтобы несколько столетий подряд православный художественный мир продолжал пребывать в столь явном догматическом заблуждении, полностью забыв о необходимой апофатической осторожности в трактовке этой ответственнейшей темы. Скорее всего, указанные “искажения” следует объяснять постепенным переносом акцента с “ветхозаветной” на “новозаветную”, более христологически и даже христоцентрически проявленную трактовку образа Пресвятой Троицы, о чем и свидетельствуют нередкие толкования святыми отцами и учителями Церкви темы “Гостеприимства Авраамова” как прообраза пришествия в дольний мир его Искупителя-Сына — еще (и всегда) Ангела Иеговы, Божественного Логоса, но и уже (и опять же — всегда) “будущего” Христа-Спасителя. В этом смысле особенно показательны цитировавшиеся ранее высказывания святых отцов о Христе как о единственно возможном пути нашего богопознания в самооткровении Пресвятой Троицы, — когда Он Сам оказывается единственным реальным Образом Отца и одновременно как бы “Прообразом” Духа. И тут полезно будет привести рассказ преподобного Симеона Нового Богослова о видении им Святой Троицы, которое он передает в форме следующего диалога: “Тогда находящийся в таком состоянии (Любви Божией) постигает и видит — и вот свет. Свет же, ему кажется, имеет свое начало сверху; ища, однако, он находит, что он (свет) не имеет ни начала, ни конца, ни середины. Когда же он от этого приходит в недоумение — и вот Трое в том же: чрез Кого и в Ком и в Кого. И, видя это, он спрашивает, чтобы узнать, и слышит ясно: «Вот Я Дух, через Кого и в Ком Сын» и «Вот Я Сын, в Кого Отец». Когда же он приходит в еще большее недоумение — «Вот ты видишь», — говорит Отец. — «И Я, — говорит Сын, — во Отце». — И Дух говорит: «Действительно Я, потому что через Меня видящий Отца — и Сына видит и, видя, исступает из видимых (вещей)»”54.
Сугубо христоцентрический характер богообщения преподобного Симеона подчеркнут им здесь с особой силой, и это естественно: вокруг Христа, как вокруг Божественной оси всего бытия, неизменно вращается духовный опыт и боговдохновенная мысль Православия. Именно поэтому в прообразовательно-
В связи со сказанным представляется, быть может, в известной мере излишним ригоризмом совсем уж полное отрицание отмеченных нами столь многочисленных и разнообразнейших попыток (пусть то более, то менее удачных — но всегда подчеркнуто христоцентрических) разъяснить и уточнить — в виде, например, надписей на иконах — догматическое содержание образа Троицы как такового; — попытки эти порой носят весьма формальный характер, но тем не менее остаются в русле Священного Предания и являются (при всех оговорках) если и не совсем желательными, то все же в известной степени допустимыми.
Безусловно, образцовым типом иконографии Пресвятой Троицы должно быть признано изображение достаточно идентичных друг другу ангелов с простыми, без перекрестий, нимбами, без всяких дополнительных надписей около фигур, с единственным “надписанием” — “Святая Троица”. Это — преимущественно символическое (апофатически предельно точно выраженное) изображение Единого Бога в Трех Ипостасях-Лицах, соответствующее прообразовательному толкованию библейского события посещения Авраама тремя небесными “путниками”, — без особой конкретизации Ипостасей теми или иными формальными способами. Именно такой — идеальной во всех отношениях — и была рублевская “Троица”. Именно такие требования были позже высказаны и постановлением Стоглавого собора в Москве, хотя участники его и не привели каких-либо догматических обоснований своей позиции, лишь сославшись на давнюю традицию — что, конечно же, было явно недостаточным56.
Не менее, однако, правомочным следует признать и появление икон Троицы, где средний ангел получает крещатый нимб с надписью “О WН” (Сый) — если считать, что здесь Святая Троица определяется как явленная непосредственно только Сыном (“будущим” — по отношению ко времени Авраамову — Спасителем), Чья природа — та же, что и у Отца и Святого Духа, что и подтверждается надписью в нимбе. Такого типа иконы лишь более подчеркивали иной, в сравнении с ветхозаветными теофаниями, характер проявления Божественной икономии Святой Троицы в “новозаветном” мире. Подобные иконы вполне соответствовали святоотеческим толкованиям “Гостеприимства” как явления Аврааму Бога Сына (Логоса) в сопровождении двух ангелов; все же три ангела вместе символизировали и Само Единое Триипостасное Божество.
Догматически менее точными и менее потому оправданными необходимо признать те иконы Троицы, в которых каждый из ангелов имеет крещатый нимб с надписью “О WН”, ибо в данном случае все три Ипостаси могут восприниматься как бы причастными (“страдательно”) Крестной Жертве Христа. Но, разумеется, для православного сознания такое (частично “патрипассианское”) восприятие образов всех трех ангелов вряд ли возможно, и можно предполагать, что в данном случае крещатые нимбы с надписями понимались лишь как “внешнее” свидетельство полного единосущия всех Лиц. В то же время эти средокрестия в нимбах были, одной стороны, дополнительным указанием на явленность Ипостасей ограниченному человеческому Боговидению именно только через Сына (о чем уже говорилось выше), а с другой — применялись как необходимая, традиционная и потому попросту привычная графическая основа для размещения самой надписи “Сый”.
Однако и здесь грань догматически дозволенного (конечно, с обязательным учетом высказанных ранее оговорок) еще не переступалась; последнее имело место лишь при стремлении еще более радикально подчеркнуть сугубо христологический аспект “новозаветного” восприятия образов всех трех Ипостасей, когда это производилось уже чисто механическим путем, то есть проставлением по сторонам нимба каждого из ангелов дополнительных инициалов “IС ХС” (трижды), что встречается в некоторых памятниках конца XVI–XVII вв. — чаще всего в схоластически-выхолощенных и весьма заформализованных памятниках позднебалканской церковной живописи57. Но, разумеется, и в последнем случае никто из элементарно знакомых с основами православного учения о Боге–—–Святой Троице, конечно же, не воспринимал подобных икон в качестве тройного изображения одной и той же Ипостаси Бога Сына.
* * *
То, что в древней Руси тема Святой Троицы толковалась (и, соответственно, воплощалась в иконописи) с достаточной широтой, как и то, что толкования эти вбирали в себя самые различные подходы, — хотя и оставались при этом всегда в границах Священного Предания, — хорошо видно на примере некоторых текстов из “Просветителя” преподобного Иосифа Волоцкого — известного сборника его посланий, составленного в самом начале XVI в.58.
Только недоразумением можно объяснить высказывания некоторых исследователей об однозначно отрицательном отношении преподобного Иосифа к традиции понимания “Гостеприимства Авраамова” как образа явления Бога с двумя ангелами — традиции, которую он якобы даже считал ересью59. Это совсем не так. Ведь когда волоцкий игумен критикует “жидовствующих”, то есть новгородско-московских еретиков, вообще отрицавших возможность написания икон Троицы из-за того, что Авраам, мол, встретил не “всю” Троицу, а только Бога с ангелами, то он отметает лишь такой неправомочный вывод из этого ветхозаветного события по отношению к возможностям религиозного искусства, но отнюдь не само данное толкование “Гостеприимства”. Такой вывод, — пишет преподобный Иосиф, — делают только “иже недобре разумевше, ни праве испытавше Божественнаа Писаниа”; те, которым из-за этого “многа сопротивна видятся” (то есть многие противоречия — Ю. М.); те же, кто “праве и непреобиденне пытающе, вся зело согласна и несопротивна разумеют — ветхая же и новаа”60, то есть гармонично примиряют ветхозаветные образы и понятия с новозаветными, находят вполне согласным все, что “святии божествении отци наши рекоша о Святей и Животворящей Троици”61. Преподобный Иосиф, шествуя истинно “царским” — срединным путем — православного “рассуждения”, считает, что правы и те, кто говорит, что Авраам принял Святую Троицу, и те, кто считает, что “Авраам, страннолюбствуя, Бога прият со Ангелы”, — причем подтверждает равноистинность обоих толкований ссылкой на авторитет святого Иоанна Златоуста, считавшего правомочными оба утверждения, а также ссылками на свв. Иоанна Дамаскина, Андрея Критского и Иосифа Песнописца62. Завершает же преподобный Иосиф Волоцкий свой экскурс в святоотеческую мысль вполне определенным утверждением, что “во всемь зело едину мысль и един разум имуть” — и “овогда пишуть, яко Авраам Бога со двема Ангелома прият”, и “овогда же, яко учреди (то есть встретил — Ю. М.) Патриарх (то есть Авраам — Ю. М.) Ангелы”, и “овогда же глаголют, яко Святую Троицу прият”, ибо “вся бо сиа истинна суть”63.
Именно потому, что “Божиа явлениа” столь “многоразличны” и потому, что “в подобии человечесте явися тогда Аврааму Святаа Троица, Святии же и Божествении Отци предаша нам писати (Ее — Ю. М.) на святых иконах в Божественом и Царьском и Ангельском подобии”, когда такими изображениями ангелов показывается особая божественная “слава”: “Еже бо на престоле седети, показует сих царьское и господственое и владычественое. А еже венци имети обкружнымь обчертением на священообразных главах, круг убо — образность всех виновнаго (то есть являющегося причиной всего — Ю. М.) Бога, якоже бо круг ни начала, ниже конца имать: сице и Бог безначален и безконечен. А еже криле имеють, да покажуть сих гореносное, и самодвижное, и возводительное, и нетягостное, и ко земным непричастное. Скыпетры же имуть в руках, да покажуть сих действеное и самовластное и сильное”64.
Но при всей отмеченной нами широте художественно-символической трактовки троического образа, порой доходящей даже до условной его “ипостасной конкретизации” (отражением чего, в частности, может служить и уже упоминавшаяся “Зырянская Троица” преподобного Стефана Пермского), православное сознание, конечно же, всегда учитывало безусловную относительность вообще всяких изображений Троицы: об апофатической “неназываемости” непосредственно Самой Ее Божественной Сущности всегда помнили на Руси — об этом, кстати, неоднократно напоминает преподобный Иосиф Волоцкий. Естественно, понимал это и Рублев, который, что вполне вероятно, и сам мог читать у св. Дионисия Псевдо-Ареопагита следующее: “все-превосходящее Божество прославляется и Единым, и Троицей, не будучи ни единым, ни троицей в нашем понимании <…> хотя для того, чтобы воспеть Его <…> мы действительно именуем Сверхименуемого и божественными именами Троичности и Единства, а Сверхъестественного — естественными. Но, по существу, никакая единица, или троица, или иное число <…> не в состоянии выразить превосходящую всякий разум тайну Того запредельного Сверх-Божества, сверхъестественно превосходящего всякую сущность”65.
И верно, ведь со строго апофатической точки зрения и само изображение Святой Троицы в виде ангелов — также необходимо условный (хотя и предельно адекватный) символ, и не более того, “ибо, — как однозначно утверждал преподобный Иоанн Дамаскин, — невозможно, чтобы среди твари был найден образ, во всем сходно показывающий в себе самом свойства Святой Троицы”66. Но это отнюдь не приводит к троическому “иконоборчеству”: вселенский трезвый разум Церкви даже и в столь сложном случае — при необходимости выразить средствами ограниченного человеческого искусства надмирные тайны Пресвятой Троицы — вновь обращается, как мы видим, к догмату Боговоплощения (как вообще единственной основы православного понятия образа), передавая через Лицо Бога Сына — вочеловечившегося Спасителя — все необходимые и возможные для нас откровения троических тайн.
Несмотря на все трудности (как онтологического, так и гносеологического порядка), Священное Предание рождает, благодаря содействию Святого Духа, и троичные иконы — как оплотненные и явленные в красках и линиях образы-символы, те образы горнего мира, что предстают перед духовным взором великих православных подвижников и их учеников-художников в акте боговидения. Происходит же это тогда, — как часто говорит о таком духоносном опыте преподобный Симеон Новый Богослов, — когда Сама Пресвятая Троица вселяется в человека, соединяясь со всей душевно-телесной полнотой человеческой личности, и “когда человек тоже становится троическим образом, триипостасным — телом, душой и Богом как третьей составной частью этого соединения — по благодати”67. Именно тогда, как можно судить по личному опыту того же преподобного Симеона, человек и становится способным духовно — в “преображении ума” — постигать предельные антиномии христианского вероучения, в том числе утверждать одновременно и единство Триипостасного Бога, и “сверхсущностную” реальность личностных ипостасных имен — Отца, Сына и Святого Духа; тогда-то и становится возможной, как свидетельствует преп. Симеон, некая “конкретизация” Ипостасей в Их “собеседовании” с человеком: недаром он приводит в связи с этим своего рода “запись” (уже цитировавшуюся выше) такой “беседы” — когда каждая из Ипостасей как бы “говорила” с ним отдельно.
Не подобный ли мистический опыт боговидения стал основой и богословско-художественных откровений преподобного Андрея Рублева о тайнах Пресвятой Троицы?
Не эти ли тайны о Триипостасном Боге и богоподобном — по благодати — человеке приоткрывались ему, когда, как рассказывает преподобный Иосиф Волоцкий, Андрей с учителем своим Даниилом, совершая исихастское “молитвенное делание”, устремляли свои души “в горняя” — “яко им божественныя благодати сподобитися, и токмо в божественную Любовь преуспевати, яко никогда же в земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному и божественному Свету, чувственное же око всегда возводити ко еже от вещных веков написанным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Богоматери и всех святых. Яко и на самый праздник Светлаго Воскресения Христова на седалищах седяща и пред собою имуще божественныя и всечестные иконы, и на тех неуклонно зряще, божественныя радости и светлости исполняхуся”68.
И, наконец, — не является ли “Троица” преподобного Андрея зримым свидетельством того, что и он сумел достичь — равно на путях художественного и молитвенного “монашеского делания” — возможной для него меры “обожения”, позволившей ему проявить в своем личном творчестве высочайший уровень духовной и чисто богословской интуиции?
Думается, что на все эти вопросы мы с полным правом можем ответить утвердительно.
* * *
Высокая мера личного обожения дала преподобному Андрею возможность создать безупречный образ Пресвятой Троицы, вобравший в себя весь предыдущий опыт художников-боговидцев. Признание этого факта, засвидетельствованного его творческим наследием, не так давно послужило основанием к его канонизации, осуществленной Русской Православной Церковью. В своем жизненно-опытном богословии преподобный Андрей, как и духовный учитель его — преподобный Сергий Радонежский, поднявшись до вершин святоотеческого богопознания, навсегда останется для нас преимущественно служителем, почитателем и проповедником Пресвятой Троицы. Создание Рублевым, по-видимому, немалого числа троических икон, в которых он искал пути воплощения исподволь открывавшегося его духовному взору пренебесного образа Триипостасного Божества69, привело его, наконец, к написанию промыслительно дошедшей до нас “иконы икон” — прославленной лаврской “Троицы”, совместившей в себе с предельной полнотой самые многоразличные стороны понимания этого образа. И следует со всей определенностью утверждать, что это никому более — ни до, ни после него — не удавалось исполнить с такой мудростью и с такой творческой благодатной свободой. Как следствие — в рублевской “Троице” явно просматриваются три основных уровня художественного боговидения: один — высший, строго апофатический, где перед нами предстает почти запредельный символ Единосущной Троицы в Единице и Единицы в Троице; другой уровень — преимущественно определяемый образом Сына как Логоса и, одновременно, как чаемого в Ветхом и явленного в Новом Завете — Христа Спасителя, приоткрывающего Собою сверхсущностное сверхбытие Троицы тварному бытию — как “обоготворяющую (QeopoiХj) Любовь, которая есть Бог”70; и, наконец, третий уровень — подчеркнуто катафатический, на котором усматривается относительная возможность даже некоего “личностного” (как, говоря сугубо условно, “отдельных” Лиц) умопостижения символических образов Ипостасей, при том, что — и это следует подчеркнуть — художественно-иконографически такая возможность реализуется Рублевым в иконе с предельным целомудрием догматической мысли: лишь в качестве своеобразного анагогического (возводящего к Первообразу) “намека” — и опять же только через образ Ипостаси Бога Сына (в новозаветной его транскрипции).
Какой широчайший диапазон боговидения! От “нижнего” его уровня, более понятного и, быть может, поначалу более полезного (как “млеко”, “нетвердая пища” неофитов — Евр 5:12; 1 Кор 3:2) для большинства из нас, остающихся и по просвещении верою все теми же “духовными зырянами”, которым недостаточно только “напоминательного указания” на Святую Троицу посредством Ее образа, но которым нужно еще и “показать”, “рассказать” Ее, основываясь на мистическом опыте Церкви (типа исихастских прозрений преподобного Симеона Нового Богослова), — иначе говоря, от такого катафатического (в известной мере — дидактического) уровня — и до “высшего” уровня апофатического, “символического богословия” в духе Псевдо-Ареопагита и того же Симеона (“твердая пища”, свойственная “совершенным” — Евр 5:14). И все это объединено в одной иконе, самой возможностью своего существования, как несравненным свидетельством об опыте миров иных, указывающей нам на истинный Источник Жизни.
Об этом весьма точно сказал о. Павел Флоренский: “Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог»”71. Это умозаключение абсолютно верно передает самую суть феномена рублевской иконы, хотя, конечно же, “доказательство” преподобного Андрея — отнюдь не философское, а благодатно-опытное, укорененное в самой богопросвещенной жизни Православной Церкви.
Завершая эти заметки, предмет которых представляет поистине бескрайнее поле для самого различного рода исследований, остается лишь выразить надежду на то, что все сказанное здесь достаточно ясно подтверждает, насколько вдумчиво и осознанно относился преподобный Андрей к Священному Преданию Церкви и насколько убедительно-зримо сумел он передать в богословии своей “Троицы” самые глубинные пласты православного догмата о Едином Триипостасном Божестве.
Всем иноческим и творческим своим подвигом следуя заветам преподобного Сергия о благодатном устроении человеческой личности по образу Живоначальной Троицы, всей душой своей приникая к этому Источнику нашего бытия, преподобный Андрей смог показать нам, на какие высоты боговидения может быть возведен художник, очищенный и просветленный Божественной Истиной и Красотой.